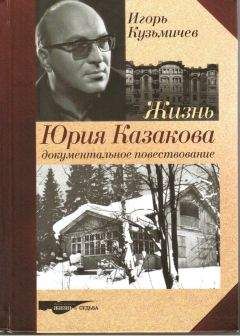Говорил:
— Живу хоросо, но сумно.
Жил он в деревянном доме вместе с последней своей женой Марьей Савватьевной. Тут уже порядки были другие, время его ценилось, и когда он работал, к нему не пускали. А работал он много. Теперь ему не нужно было уезжать в многодневные изнурительные путешествия, не нужно было охотиться, чтобы добыть себе пропитание, не нужно было навещать заброшенных в ледяной пустыне промысловиков... Зато в свободное время гостям бывал всегда рад. Держа руки за спиной, выбегал мелким шагом в прихожую смотреть: кто пришел? На вопрос: «Как поживаете, Илья Константинович?» — отвечал неизменно:
— Хоросо. Сейчас пису. Рисую.
Все стены его мастерской были увешаны картинами. Берега Новой Земли Вылка знал так хорошо, так подробно, а память его была столь остра, что ему теперь не нужна была натура — он писал по памяти, и старые новоземельцы сразу узнавали места, изображенные им.
Новая Земля не давала ему покоя. Он писал с глубокой озабоченностью:
«На Новой Земле я прожил более 75 лет. На моих глазах произошло много изменений в природе новоземельских островов. К сожалению, на островах не ведется постоянных наблюдений за ледниками, озерами, реками, островками и изменениями береговой линии.
Ледники на Новой Земле отступают. Особенно изменился ледник залива Вилькицкого. В 1910 году его язык почти доходил до Зеленой реки, а теперь не достигает реки примерно 12 километров. Самый залив стал вдаваться глубже в сушу и потому стал длиннее в два, а может быть, и больше, раза. Может быть, залив был покрыт ледником?
Ледник в южной Сульменовой губе, который В. Русанов назвал «Шумным», в 1910 году падал в залив крутым барьером. Толща льда, уходящая в воду, достигала 55 метров. Теперь этот ледник до воды не доходит примерно на два метра, и толща льда его уже на такая, как 50 лет назад.
Ледник около озера Крестовой губы падал в него отвесной стеной, и на озере плавали айсберги. Теперь он до озера не доходит, и спускается он не тяжелой отвесной массой, а более полого.
На Новой Земле есть интересные озера, про которые ненцы говорят, что они «дышат». В них уровень воды изменяется через определенные промежутки времени. Озера Тирчлаха-Иилы-Тоя состоят из двух смежных соединяющихся озер, и уровень воды в них качается, как на весах. Ненцы знают, что рыба с водой переходит из одного озера в другое, знают, при каком уровне воды надо ловить ее.
Из-под «Шумного» ледника Сульменовой губы течет ручей, который бурлит в самую стужу в январе или в феврале. Второй такой ручей течет из-под ледника в Глазовой губе. Зимой над этими ручьями то столбом, то грибом стоит пар...
Многие островки, которые я знал 50 лет назад, теперь исчезли. В заливе Литке были три высоких, скалистых островка причудливой формы. Ненцы назвали их «Три русских», они стояли как три человека. Теперь их осталось только два, третий разрушился. А островок был приметный, высокий.
Против устья реки Саввиной тоже был остров, довольно большой, на котором во множестве гнездились чайки. Теперь от острова остались отдельные камни.
Во многих местах на Южном острове Новой Земли, там, где 30 лет назад круглый год лежал снег, а то и лед, теперь весной и летом растет трава и даже цветут цветы.
Все эти изменения надо наблюдать и изучать. А этого никто не делает. Надо также разрешить вопрос о вечной мерзлоте на Новой Земле. Промерзает там земля с поверхности, а копнешь глубже чем на полметра — земля не смерзлась. Никогда не встречал я там вечной мерзлоты, а я искал ее немало. Ненцы говорят: «Теплая наша Новая Земля».
Может быть, в связи с Третьим Международным геофизическим годом на эти факты обратят внимание».
Заболев, почувствовав, что умирает, Вылка стал мужественно готовиться к смерти. Он собрал, вымыл и сложил свои кисти. Пел старинные ненецкие песни, которых уже никто, кроме него, не помнил. Ходил в гости к друзьям, прощался.
— Просяйте, — кротко говорил он и низко кланялся.
— Далеко ли собрались, Илья Константинович?
— Да пока в больнису. А потом, наверно, дальсе. — И добавлял: — Пойду искать Русанова. И опять мы с ним будем идти в холодных льдах...
Говорил еще старым друзьям:
— Будьте новоземельцами, будьте крепкими, как Север!
Андрей Миллер вспоминает:
— Когда я узнал в сентябре шестидесятого года о смерти Вылки, мне даже нехорошо стало. Никак не думал, что это так на меня подействует. Ведь я ему жизнью обязан! Пошел на похороны, как положено. У нас, новоземельцев, есть земляческий обычай: собираться всем вместе, если кто из наших умрет. Когда Вылка умер, у меня были срочные дела, но я все бросил, поехал хоронить. Это для меня было важнее всего... Он в гробу лежал маленький и как бы круглый, не подберу слова... Мы спросили: а где его ордена и медали? Марья Савватьевна говорит: «Ой, забыли! Срочно надо ехать домой!» Поехали за орденами... Мы все плакали. Моросил сентябрьский кислый дождь. Мы вынесли Вылку, понесли гроб на руках до главной улицы, с полкилометра. Потом гроб положили на машину. Я шел и вспоминал все, что сделал мне Вылка, такая тоска была, будто отца хоронил!
В 1911 году в Москве, зимой, сидя в теплой мастерской В. Переплетчикова, молодой Вылка записал нетвердой в русской грамоте рукой: «Тому назад 35 лет мой отец, Константин Вылка, через Карские ворота перешел на Новую Землю своим карбасом со своим родным племянником. У моего отца мать была: глаза ничего не видели. Отец был холостой. Он был бедный. Поселился на Новой Земле и женился. И родился я на Новой Земле».
1972—1976.
Северный волшебник слова[ 19 ]
Современная советская литература щедра талантами. Но мы не всегда любопытны к нашему словесному богатству. В самом деле, стоит начать считать, как одних только первостепенных талантов наберутся у нас десятки.
Вероятно, то, что я напишу сейчас о Писахове, не будет открытием. Вероятно, о нем писали уже, но писали, по-видимому, редко и очень давно. Наши литературоведы забыли о сказках Писахова, будто их нет давно, будто они когда-то были, как был когда-то князь Владимир Красное Солнышко.
В Архангельске я пошел к Степану Григорьевичу Писахову. Дом его мне показали — все знают. Вышел — маленький, с желтыми усами книзу, страшными бровями, с длинными густыми волосами — помор, поэт и художник. Вышел человек редкого дара — дара, почти исчезнувшего у нас: человек, сумевший почувствовать тончайшие переливы народного сказа, народного склад,а речи.
Он ввел меня к себе, сразу заговорил, засмеялся, стал необычайно привлекательным. И подарил мне свежую книжку своих сказок, написав на ней: «С приветом не от того Севера, которым пугают людей юга: моржи, медведи, льды, дикие люди, наполняющие город Архангельск... — от Севера, красой своих просторов венчающего земной шар!»
Потом я уехал на Белое море. Я давал эту книгу рыбакам, поморам, морякам, ее читали вслух с таким вкусом, с таким упоением, какого удостаиваются, право же, немногие писатели.
Писахов — гиперболичен. Он буен в поэзии точно так же, как в жизни. Писахов летал с польским летчиком Нагурским на Новую Землю. Было это в давние времена. Я видел этот самолет на картине Писахова. Он похож на этажерку.
Писахов мог в полном одиночестве отдаться творчеству на крохотном островке в Ледовитом океане. Стоит вообразить этот островок в двадцать метров шириной, седой мох, камни, океан вокруг, тускло-красный диск незаходящего солнца, оторванность от всего мира — есть от чего похолодеть! Писахов же провел время на этом клочке земли в сладком волнении — он писал картину.
Писахов мог купаться в полынье. Он мог ходить на паруснике в страшные северные штормы, мог зимовать в таких условиях, о которых теперешние поморы знают только по рассказам стариков.
Может быть, поэтому его сказки так пронзительно-озорны, так жизнерадостны и так богаты необычными поэтическими смещениями.
Герой его сказок Сеня Малина — всесилен. «Простое дело, — говорит он, — снег уминать книзу: ногами топчи, и все тут. А я кверху снег уминаю, — когда снег подходящий да когда в крайность запонадобится». Он пьет звездный дождь, саркастически смеется над всем злым и спит на берегу, натянув на себя море.
Язык Писахова — явление первородной мощи. Язык этот, может быть, и есть тот самый язык, на котором говорили вольные новгородцы, заселившие четыреста лет назад Белое море. Язык Писахова древен и чист по складу своему, по ритму, по выразительности — и он же весьма современен по социальной заостренности, так как почти все сказки Писахова социальны.
Сказки создавались у нас десятилетиями, создавались объединенными усилиями сотен и тысяч словотворцев. Сказки «обкатывались», шлифовались, канонизировались, пока, наконец, не получалось песни, из которой слова не выкинешь.
Написать сказку, равноценную народной, пустить ее в народ — труд великий, и может сделать это только большой поэт, только человек, безмерно знающий дух и характер своего народа.
![Юрий Казаков - Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]](https://cdn.my-library.info/books/210606/210606.jpg)